
Одним из достаточно распространенных «симптомов» сегодняшнего дня становится так называемый хронологический провинциализм. Для такого провинциала характерно не желание что-либо самостоятельно осмыслить, постичь, изучить, а лишь весьма поверхностное стремление «быть в курсе». Ведь есть такое выражение.
Быть в курсе того, о чем сегодня пишут, говорят с экранов телевизора, что на слуху у всех… И возникает своеобразная погоня за «модной» информацией, происходит процесс практически мгновенного формирования общественного мнения…Немногие знают, что в эпоху рождения печатной книги распространенным было суждение, что она — не столько благо, сколько «стоглавая гидра ереси». Многие люди просто боялись, что она может навязать не только полезные мысли и воззрения, но и вредные, даже опасные... Такая же участь постигла сегодня современные СМИ.
Продолжение диалога с историком Гаязом Самигуловым и адвокатом Андреем Коршуновым о нашей вечной погоне за ускользающей истиной… И об истине, исторической и юридической.
— Гаяз Хамитович, считается, что государственной идеологии у нас в России сегодня нет. Но, на мой взгляд, православие все больше становится тем самым идейным стержнем, что скрепляет общество… Как вы считаете, может ли быть историк членом политической партии?
— Фактически диктата политиков над историками, Владимир Васильевич, у нас сегодня формально нет. И в Конституции России прямо записано, что у нас светское государство, а то, каким вы его видите в своей реальности, — уже ваши проблемы…
Всегда и везде есть конституционная ситуация, а есть действительная, которая весьма разнообразна зачастую… Ну а степень расхождения между ними, наверное, отличается не только у разных государств, но и у разных частей одного государства…
Настоящее есть следствие прошлого…
— Ну да, и наше разделение на творческие союзы в какой-то мере все еще копирует средневековые профессиональные цехи. Думаю, такое разделение ошибочно и является временным. Объединяться нам надо — по общности философских и эстетических воззрений, склонностей, характеров…
— Я соответствующих исследований не проводил, конечно, Владимир Васильевич, но вполне допускаю, что историк, относящийся к «Единой России», будет в своих работах проводить не то чтобы тенденциозную, но достаточно реальную линию, на которую укажут в своих выводах, и совсем не ту, что проводил бы, скажем, активный сторонник КПРФ… И это — вполне неизбежный, я бы предположил, вариант. Зачем он нужен партии, если не будет выполнять ее наказ?
— И это ведь вполне естественно… Да и можно ли оценить какое-либо историческое произведение точно и безошибочно? Как правило, это процесс очень сложный. Сегодня большинству нравится одно, а завтра — другое. Когда-то даже бытовало выражение «вкусы эпохи». Причем, постоянно творя и совершенствуя гомосферу, человек в значительной мере сам формируется ею. Взаимосвязь тут очевидна…
Кстати, когда мы вступали в КПСС, то всегда указывали, для чего это нам нужно. Например: «Хочу быть в первых рядах строителей коммунизма». Я специально поинтересовался, пишут ли что-нибудь подобное сейчас… «Нет, — разъяснили мне, — просто: «Прошу принять меня в партию…».
— И так понятно, зачем… Наверное, определенная ангажированность есть у любого специалиста-гуманитария, и она может проявляться по разному, скажем, я для себя свою ангажированность определяю как стремление максимально полно и максимально независимо выстроить и контурировать ту картину прошлого, которую нам позволяют раскрыть источники…
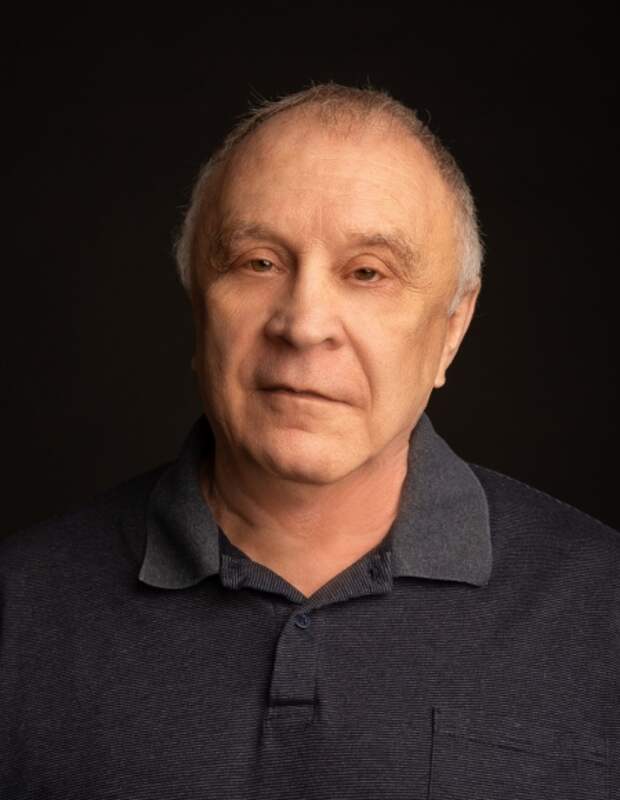
Владимир Филичкин
Неблагодарное занятие — погоня за прошлым
— И что, никому не симпатизируете, ни за кого не болеете? Возможно ли такое в наше время? Ведь только после смерти Сократа (его осудили за то, что он своими вопросами слишком беспокоил народ) верные ученики стали записывать его разговоры, кто какие помнил. Так родился относительно безопасный жанр — философский диалог…
— Из героев? Нет, на самом деле, я симпатизирую очень разным персонажам, которые могут быть на противоположной стороне исторического процесса… Могу спокойно симпатизировать в какой-то части пугачевцам, понимая, что их довело… С другой стороны, симпатизирую и полковнику Лазареву, который организовывал противостояние…
— А зачем власти Пугачева в клетку посадили? Унизить хотели?
— В данном случае, я думаю, что это было, во-первых, потому, что у него был опыт побега, а во-вторых, клетка не была тогда чем-то уникальным в таких условиях. Общие условия содержания. С одной стороны, его видно, с другой — не убежит.
Насколько можно понять, для властей, для Екатерины II лично, когда Пугачев был пойман и угрозы минимизированы, для них это было большим личным фактором. Вы, Владимир Васильевич, только представьте себе ситуацию, когда все кругом бурлит, не хватает сил для реального эффективного противодействия… Сколько времени его не могли поймать…
Он берет Казань, а от Казани и до Москвы не так уж далеко… И вот уже в душе много всяких мрачных предчувствий… Поэтому, когда угроза была купирована, для них это был момент катарсиса. Но при этом Екатерина настаивала, чтобы пыток не было тех, кто участвовал в восстании, хотя надо было многое выяснить, а пугачевский полковник, «злодейский старшина» Микотинской волости Асаев, даже после окончания тех событий оставался старшиной…
— А ведь и Салават Юлаев выступал против властей. Емельян Пугачев и Салават Юлаев сражались за одно общее дело, но много вы знаете памятников Пугачеву?
— В любом процессе, при желании, можно выделить разные стороны. В случае с Юлаевым упор обычно делается не на его противостояние центральной власти, а на борьбу за права народа. Такой была установка советского времени.
Как провести разграничительную черту…
— Андрей Геннадьевич, диалоги как жанр существуют уже несколько тысячелетий. Правда, в последние столетия к нему редко обращались… Но, возможно, как часто бывает, пройдет какое-то время и диалоги вновь станут популярны. Ведь в наше время людям следует пройти через отказ от старых догм, вспомнить о том, что существует такое понятие, как коллективный разум, который формируется не сам по себе, а именно в беседах…
Не слишком ли часто в последнее время менялись эти самые догмы? Все меняется…
— Да нет никакой нестабильности, Владимир Васильевич. Кто-то из историков сказал, что страны меняются, а города остаются. Люди как жили в своем городе, как ходили на работу, так они, собственно говоря, на нее и ходят. Меняются какие-то, как сейчас модно говорить, нарративы, но в основной массе жизнь у нас остается такой, какой она и была.
Люди трудятся, чтобы заработать средства на пропитание, рожают, растят детей, как поется в песне: «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся…». И, как я говорю на семинарах, пульс человека бьется все с той же частотой, что и 2000 лет назад…
Почему все религии до сих пор популярны, хотя они возникли давным-давно? Да потому, что в них люди все еще пытаются найти ответ на те же вопросы, они их все так же беспокоят…
— Припоминаю, Андрей Геннадьевич, на эту тему слова персонажа Сталина из пьесы Михаила Шатрова: «Дружеский совет: если вы не хотите иметь массу недовольных за спиной, массу добавочных неприятностей, — оставьте меня в покое. Дом построен, жить можно… Но если уж так хочется, сделайте косметический ремонт, смените обои, обстановку… Занимайтесь сегодняшними делами, их у вас тоже достаточно». Это о том, что не надо постоянно пересматривать устоявшееся…
— Кстати говоря, что касается законодательства, меняется оно не сильно. Любое общество, которое управляет каким-то образом само собой, оно вырабатывает примерно одни и те же правила социального общежития… Например, есть очень интересный труд Стивена Пинкера, канадско-американского ученого, специализирующегося в области экспериментальной психологии, психолингвистики и когнитивных наук, «Язык как окно в человеческую природу». Это из области философии сознания, ныне такое модное направление…
О чем говорит Пинкер? Что тот язык, на котором общаются люди, — отражение органической структуры мозга. И он предлагает по этому языку — а он делает свой анализ на основании английского языка — думаю, было бы интересно посмотреть, что делается в русском языке, хотя, наверное, то же самое... Так вот, он утверждает, что языки все примерно одинаковы, потому что биологически мозг у всех примерно один и тот же.

Андрей Коршунов
Всего лишь три минуты на осмысление…
— Читал я как-то любопытную книжку «Симия: раскрытие смысла слов, поступков, явлений» Николая Вашкевича. Это о полном или частичном совпадении значений языковых выражений, в основном русском и арабском языках, что касается английского, то многие утверждают, что до Шекспира он был совсем иным…
— Да, конечно, но язык изменяется под необходимость людей. Вопрос в том, растет он, прогресс идет или деградация? Очень трудно определить…
— Да и русский сейчас уже далеко не пушкинский… Поэтому и точно переводить старорусские манускрипты сложно, не понимая значения некоторых слов.
— Да, и русский тоже меняется. И даже йогурт и кефир уже по-другому оценивается…
— Так молодняк разговаривает вообще на каком-то своем языке. Приходится его переводить…
— Молодняк может изъясняться на чем угодно, главное не забывать, что они наше будущее... И я бы не сказал, что это кошмарное будущее. Они другие, понимаете, Владимир Васильевич? Если они говорят иначе чем мы, значит, нет в этом необходимости у них. Люди рождаются? Рождаются. Живут? Жизнь продляется? Продляется!
— Биологическая…
— Биологическая, соответственно, и социальная тоже. Поэтому тут еще вопрос, кто лучше к текущим условиям адаптируется…
— Ну да. И об этом пушкинская строка: «…Пока сердца для чести живы…». Значит, поэт уже тогда допускал, что может наступить время, когда чьи-то сердца перестанут быть живы для чести, станут пустыми и холодными? Так легче адаптироваться сегодня…
— Что поделать, это разновидность адаптации… И в той же философии науки, я ее недавно в аспирантуре изучал, нет критерия рациональности сейчас. Давно уже от него отказались. Критерий один: это способствует продлению жизни и выживанию или не способствует? Вернулись к этому: если популяция живет и размножается, это хорошо.
Свежие комментарии